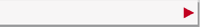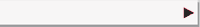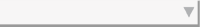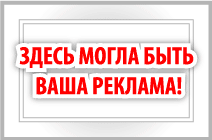Раздел: Зарубежная литература - Классики - Голдинг Уильям - Двойной язык
- Двойной язык
- Автор книги: Голдинг Уильям
- Размер архива: 148 kb.
- Пароль на архив: www.knigashop.ru
- Для открытия файлов скачайте архиватор
- Скачать книгу в формате RTF
_Слепящий свет и тепло, неразличимые в самопознании. Вот! Я сумела. То есть насколько у меня получилось. Память. Память до памяти? Но времени же не существовало, оно даже не подразумевалось. Так как же она могла быть до или после, раз это не было похоже ни на что другое – отдельное, четкое, само по себе. Ни слов, ни времени, ни даже "я", эго – ведь, как я пытаюсь объяснить, тепло и слепящий свет самопознавались, если вы меня понимаете. Но, конечно, понимаете! Что то от качества обнаженной сущности без времени и видимости (слепящему свету вопреки), и ничто не предшествовало, и ничто не последовало. Отторжено от преемственности, иными словами, я полагаю, это могло произойти в любой миг моего времени – или вовне его!
Где же в таком случае? Я помню недержание. Моя нянька и моя мать – какой, значит, была она юной! – закричали со смехом, который был и упреком. Могла ли я говорить прежде, чем я могла говорить? Каким образом я знала, что существует «упрек»? Что же, имеется целый ворох всяких знаний, которыми мы обладаем изначально: что есть гнев, что есть боль, что есть наслаждение, любовь. Либо прежде, либо почти сразу же после этого недержания – вид на мои ножки и животик в теплых лучах солнца. Я рассматриваю соромную щелку между моими ножками, просто присматриваясь, понятия не имея, куда она ведет, зачем она, а также и о том, что она определила меня на всю мою жизнь. В ней одна из причин, почему я здесь, а не в каком нибудь другом месте. Но я ничего не знала ни об Этолии, ни об Ахайе, ни обо всем прочем. Еще смех, возможно, чуть утаиваемый, и упрек. Меня поднимают и легонечко шлепают. Боли нет, только ощущение скверного поступка.
Почти столь же далеко и время, когда у меня было мало своих слов, когда я не могла объяснить себя. Лептид, сын нашего соседа, стоял на коленях у большой стены нашего дома и играл в игру. В одной руке он держал тлеющую тростинку, а в другой – полую тростинку. Он дул в полую тростинку, и конец другой разгорался пламенем. Он выглядел совсем как один из наших домашних рабов пожилого возраста, который работал с медью, и оловом, и серебром, а иногда, хотя и не часто, с золотом. Я подумала: он делает для меня оловянное украшение, из чего следует, что жизнь я в целом начинала как доверчивый ребенок, пока не узнала, что и как. Я присела на корточки, чтобы лучше видеть. Но он выжигал муравьев – и делал это очень ловко. Поражал каждого, будто охотник, причем обгорали муравьи редко – они испепелялись в один миг. Я и сама хотела бы попробовать, но знала, что с двумя тростинками мне сразу не совладать. Кроме того, меня учили не играть с огнем! Теперь же интересно лишь то, что я не считала муравьев живыми существами. Рыбы были для меня самым нижним пределом. Вот почему теперь о рыбах.
У нас был большой каменный рыбный садок, такой большой, что надо было вскарабкаться на три взрослые ступеньки, и только тогда можно было увидеть плавающих в нем рыб. Время, о котором я думаю, видимо, относится к лету, так как вода в садке стояла низко, хотя рабы таскали морскую воду в бочках с берега, но в моей памяти у них ничего не получалось и вода оставалась низкой, пока не начинались дожди. Мне больше всего нравилось время, когда рабы несли рыбу в бочках с наших лодок и опрокидывали бочки прямо в садок. Как же стремительно кружили рыбы в эти минуты! Полагаю, они были перепуганы, но со стороны казалось, будто они радуются и резвятся. Только скоро они успокаивались и словно были довольны, а если не требовались сразу на кухне, то оставались в садке, как своего рода домашние ручные рыбы. Управляться с ними было легко, точно с домашними рабами. Не был ли это первый раз, когда я сравнила одних с другими? В тот раз за ними пришел Зойлевс. Естественно, он тоже был домашним рабом. Я что то запуталась. Они рождались рабами в нашем доме, а не были взяты в плен в битве или проданы за преступления или по другой какой то причине – ну, например, из за бедности. Вы же знаете, как это бывает. Я собиралась прибегнуть к другому сравнению и сказать: это то же, что родиться девочкой, женщиной, но оно не вполне подходит. В детстве есть время, когда девочки не знают, насколько они счастливы, так как не знают, что они девочки, если вы меня понимаете, хотя позднее узнают, и большинство – или во всяком случае некоторые – впадают в панику, точно рыбы на сковородке. Ну хотя бы наиболее удачливые. Зойлевс, однако, просто швырнул этих рыб в масло, которое уже дымилось. Одна рыба высунула голову за край сковородки и разинула на меня рот. Я завопила. И продолжала вопить, потому что было очень больно. Наверное, я вопила какие то слова, а не просто вопила, потому что помню, как Зойлевс закричал:
– Ну, ладно! Ладно! Я отнесу их обратно…
Тут он умолк, потому что в кухню быстро вошла наша новая домоправительница, гремя привязанными к поясу ключами.
– Что тут происходит?
Но Зойлевс уже исчез вместе с рыбой. Моя нянька объяснила, что я испугалась рыбы, так не надо ли принести что нибудь в жертву от сглаза – головку чеснока, например. Наша домоправительница заговорила со мной ласково. Рыбы для того сотворены, чтобы их ели, и они не чувствуют так, как свободные люди. Она приказала Зойлевсу принести назад сковородку с рыбой. Он объяснил, что рыбы уже снова в садке.
– То есть как, Зойлевс, снова в садке?
– Попрыгали со сковороды, госпожа, и теперь плавают там вместе с другими.
Правды я так никогда и не узнала. Рыбы, зажаренные в дымящемся масле, уплыть никуда не могут, это сомнению не подлежит. Но Зойлевс никогда не лгал. Ну разве в тот один единственный раз. Может, он выбросил их или спрятал. Зачем? Ну а предположим, что они действительно уплыли, так из этого еще не следует, что я была причиной. Тем не менее все думали, что это странно. Домашние рабы, добрые души, то есть наши, готовы поверить во что угодно, и чем менее правдоподобно, тем лучше. Мы все торжественно отправились к садку, но одна рыба очень похожа на всех остальных, а в тени под козырьком кровли их кружил целый косяк. Домоправительница позвала мою мать, которая позвала моего отца, и к этому времени Зойлевс уже неколебимо держался своей истории, была ли она правдой или нет. Под конец, думается, он и сам в нее поверил, поверил, что некая сила исцелила полуподжаренную рыбу без всякой на то причины, а это – по крайней мере для моей няньки – указывало на вмешательство богов. Немножко – нет, не благоговения, но почтительности – досталось и на мою долю. В конце концов принесли жертву морскому божеству, хотя за чудотворное исцеление скорее надлежало поблагодарить Асклепия или Гермеса. Будь я в то время постарше, то, учитывая мой пол, могла бы счесть странным, что они не сочли нужным умилостивить богиню вместо бога. Но которую? Ни от Артемиды, ни от Деметры, ни от Афродиты толку мне бы не было.
Однако, думаю, мне следует сообщить вам что нибудь о нас. Мы – естественно, этолийцы, поскольку живем на северном берегу залива. А происходим из Фокиды. Мой отец очень… был очень богатым человеком, и мой старший брат унаследовал все его имущество. Там, где наша земля соприкасается с морем, она тянется по берегу более чем на милю. У нас есть тысячи коз и овец и обычный старый дом с обычными приживалами, рабами и всякими людьми. Еще у нас есть доля в пароме, который плавает между краешком нашей земли и Коринфом. Прежде путешественники, сходя на берег, часто принимали наш дом за начало деревни, которая расположена выше в долине, и они стучали в двери, думая получить ночлег, или лошадей, или даже колесницу. Но незадолго до того, как я родилась, мой досточтимый отец распорядился, чтобы в том месте, где причаливал паром, поставили столб с деревянной рукой, указывающей мимо нашей земли на долину.
Где же в таком случае? Я помню недержание. Моя нянька и моя мать – какой, значит, была она юной! – закричали со смехом, который был и упреком. Могла ли я говорить прежде, чем я могла говорить? Каким образом я знала, что существует «упрек»? Что же, имеется целый ворох всяких знаний, которыми мы обладаем изначально: что есть гнев, что есть боль, что есть наслаждение, любовь. Либо прежде, либо почти сразу же после этого недержания – вид на мои ножки и животик в теплых лучах солнца. Я рассматриваю соромную щелку между моими ножками, просто присматриваясь, понятия не имея, куда она ведет, зачем она, а также и о том, что она определила меня на всю мою жизнь. В ней одна из причин, почему я здесь, а не в каком нибудь другом месте. Но я ничего не знала ни об Этолии, ни об Ахайе, ни обо всем прочем. Еще смех, возможно, чуть утаиваемый, и упрек. Меня поднимают и легонечко шлепают. Боли нет, только ощущение скверного поступка.
Почти столь же далеко и время, когда у меня было мало своих слов, когда я не могла объяснить себя. Лептид, сын нашего соседа, стоял на коленях у большой стены нашего дома и играл в игру. В одной руке он держал тлеющую тростинку, а в другой – полую тростинку. Он дул в полую тростинку, и конец другой разгорался пламенем. Он выглядел совсем как один из наших домашних рабов пожилого возраста, который работал с медью, и оловом, и серебром, а иногда, хотя и не часто, с золотом. Я подумала: он делает для меня оловянное украшение, из чего следует, что жизнь я в целом начинала как доверчивый ребенок, пока не узнала, что и как. Я присела на корточки, чтобы лучше видеть. Но он выжигал муравьев – и делал это очень ловко. Поражал каждого, будто охотник, причем обгорали муравьи редко – они испепелялись в один миг. Я и сама хотела бы попробовать, но знала, что с двумя тростинками мне сразу не совладать. Кроме того, меня учили не играть с огнем! Теперь же интересно лишь то, что я не считала муравьев живыми существами. Рыбы были для меня самым нижним пределом. Вот почему теперь о рыбах.
У нас был большой каменный рыбный садок, такой большой, что надо было вскарабкаться на три взрослые ступеньки, и только тогда можно было увидеть плавающих в нем рыб. Время, о котором я думаю, видимо, относится к лету, так как вода в садке стояла низко, хотя рабы таскали морскую воду в бочках с берега, но в моей памяти у них ничего не получалось и вода оставалась низкой, пока не начинались дожди. Мне больше всего нравилось время, когда рабы несли рыбу в бочках с наших лодок и опрокидывали бочки прямо в садок. Как же стремительно кружили рыбы в эти минуты! Полагаю, они были перепуганы, но со стороны казалось, будто они радуются и резвятся. Только скоро они успокаивались и словно были довольны, а если не требовались сразу на кухне, то оставались в садке, как своего рода домашние ручные рыбы. Управляться с ними было легко, точно с домашними рабами. Не был ли это первый раз, когда я сравнила одних с другими? В тот раз за ними пришел Зойлевс. Естественно, он тоже был домашним рабом. Я что то запуталась. Они рождались рабами в нашем доме, а не были взяты в плен в битве или проданы за преступления или по другой какой то причине – ну, например, из за бедности. Вы же знаете, как это бывает. Я собиралась прибегнуть к другому сравнению и сказать: это то же, что родиться девочкой, женщиной, но оно не вполне подходит. В детстве есть время, когда девочки не знают, насколько они счастливы, так как не знают, что они девочки, если вы меня понимаете, хотя позднее узнают, и большинство – или во всяком случае некоторые – впадают в панику, точно рыбы на сковородке. Ну хотя бы наиболее удачливые. Зойлевс, однако, просто швырнул этих рыб в масло, которое уже дымилось. Одна рыба высунула голову за край сковородки и разинула на меня рот. Я завопила. И продолжала вопить, потому что было очень больно. Наверное, я вопила какие то слова, а не просто вопила, потому что помню, как Зойлевс закричал:
– Ну, ладно! Ладно! Я отнесу их обратно…
Тут он умолк, потому что в кухню быстро вошла наша новая домоправительница, гремя привязанными к поясу ключами.
– Что тут происходит?
Но Зойлевс уже исчез вместе с рыбой. Моя нянька объяснила, что я испугалась рыбы, так не надо ли принести что нибудь в жертву от сглаза – головку чеснока, например. Наша домоправительница заговорила со мной ласково. Рыбы для того сотворены, чтобы их ели, и они не чувствуют так, как свободные люди. Она приказала Зойлевсу принести назад сковородку с рыбой. Он объяснил, что рыбы уже снова в садке.
– То есть как, Зойлевс, снова в садке?
– Попрыгали со сковороды, госпожа, и теперь плавают там вместе с другими.
Правды я так никогда и не узнала. Рыбы, зажаренные в дымящемся масле, уплыть никуда не могут, это сомнению не подлежит. Но Зойлевс никогда не лгал. Ну разве в тот один единственный раз. Может, он выбросил их или спрятал. Зачем? Ну а предположим, что они действительно уплыли, так из этого еще не следует, что я была причиной. Тем не менее все думали, что это странно. Домашние рабы, добрые души, то есть наши, готовы поверить во что угодно, и чем менее правдоподобно, тем лучше. Мы все торжественно отправились к садку, но одна рыба очень похожа на всех остальных, а в тени под козырьком кровли их кружил целый косяк. Домоправительница позвала мою мать, которая позвала моего отца, и к этому времени Зойлевс уже неколебимо держался своей истории, была ли она правдой или нет. Под конец, думается, он и сам в нее поверил, поверил, что некая сила исцелила полуподжаренную рыбу без всякой на то причины, а это – по крайней мере для моей няньки – указывало на вмешательство богов. Немножко – нет, не благоговения, но почтительности – досталось и на мою долю. В конце концов принесли жертву морскому божеству, хотя за чудотворное исцеление скорее надлежало поблагодарить Асклепия или Гермеса. Будь я в то время постарше, то, учитывая мой пол, могла бы счесть странным, что они не сочли нужным умилостивить богиню вместо бога. Но которую? Ни от Артемиды, ни от Деметры, ни от Афродиты толку мне бы не было.
Однако, думаю, мне следует сообщить вам что нибудь о нас. Мы – естественно, этолийцы, поскольку живем на северном берегу залива. А происходим из Фокиды. Мой отец очень… был очень богатым человеком, и мой старший брат унаследовал все его имущество. Там, где наша земля соприкасается с морем, она тянется по берегу более чем на милю. У нас есть тысячи коз и овец и обычный старый дом с обычными приживалами, рабами и всякими людьми. Еще у нас есть доля в пароме, который плавает между краешком нашей земли и Коринфом. Прежде путешественники, сходя на берег, часто принимали наш дом за начало деревни, которая расположена выше в долине, и они стучали в двери, думая получить ночлег, или лошадей, или даже колесницу. Но незадолго до того, как я родилась, мой досточтимый отец распорядился, чтобы в том месте, где причаливал паром, поставили столб с деревянной рукой, указывающей мимо нашей земли на долину.
Чтобы прочитать полный текст,
скачайте книгу Двойной язык, Голдинг Уильям в формате RTF (148 kb.)
Пароль на архив: www.knigashop.ru