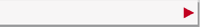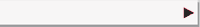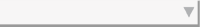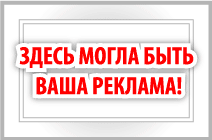Раздел: Зарубежная литература - Классики - Голдинг Уильям - Шпиль
- Шпиль
- Автор книги: Голдинг Уильям
- Размер архива: 188 kb.
- Пароль на архив: www.knigashop.ru
- Для открытия файлов скачайте архиватор
- Скачать книгу в формате RTF
_Он смеялся, вздернув подбородок и покачивая головой. БогОтец озарял его сиянием славы, и солнечные лучи устремлялись сквозь витраж вслед его движениям, животворя осиянные лики Авраама, Исаака и снова Бога Отца. От смеха у него выступили слезы, и перед глазами множились радужные круги, спицы, арки.
Вздернув подбородок и сощурясь, он крепко, в обеих руках, держал перед собой макет шпиля – о радость…
– Полжизни ждал я этого дня!
Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцеллярий, его бледное старческое лицо было в тени.
– Не знаю, что вам сказать, милорд настоятель, право, не знаю.
Он не сводил глаз со шпиля, который Джослин так крепко держал в обеих руках. Голос его, тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной, высокой зале капитула.
– Ведь если представить себе, что эта деревянная поделка… сколько в ней длины?
– Восемнадцать дюймов, милорд канцеллярий.
– Восемнадцать дюймов. Да. Именно. А в действительности, сколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла…
– В четыреста футов высотой.
Канцеллярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал чего то. Потом он взглянул на потолок. Джослин смотрел на него, повернув голову, исполненный любви.
– Я знаю. Фундамент. Но будем уповать на бога.
Канцеллярий наконец нашел то, чего искал, – он вспомнил:
– Ах, да…
И старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери. Он вышел, а в воздухе осталась весть:
– Ну конечно. Утреня.
Не двигаясь с места, Джослин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из ризницы последним и повернет налево, как всегда; а потом спохватится и повернет направо, к капелле Пресвятой девы!» Джослин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании. «Я знаю их всех, знаю, что они делают сейчас, и что уже сделали, и что будут делать. За все эти годы, пока я шел своим путем, собор стал моей плотью».
Он оборвал смех и вытер глаза. Потом снова взял белый шпиль и незыблемо утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора.
– Вот так.
Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Неф – его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны – раскинутые руки, хор – туловище, а капелла Пресвятой девы, где отныне будут совершаться богослужения, – голова. И вот теперь вознесся, устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величие – новый шпиль. «Они не знают, – подумал он, – не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении!» Он снова засмеялся от радости и вышел из залы капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. «Но я должен помнить, что шпиль – это не все! Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды».
Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите, врата, верхи ваши!» Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утреню служили в отдалении, звуки были такие крошечные, ничтожные, что казалось, их можно собрать в горсть, и тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом. Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотащив до места, и все это породило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, настигать самих себя и тонкоголосое пение хора и звучать бесконечно, на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени пред невидимым отсюда престолом; потом поднялся с колен и стал смотреть.
Мгновение он моргал. Такого яркого солнца ему еще не доводилось здесь видеть. Всего осязаемей в нефе была не дощатая, обитая холстом стенка, которая делила собор надвое, не два ряда арок, не часовни и не расписные надгробия меж ними. Осязаемей всего был свет. Он врывался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор по другую сторону нефа. И повсюду пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра. Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветки и стволы становились цветом, только цветом – медовой желтизною, исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие с высоты ста пятидесяти футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столп, над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола.
Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом. «Если б не этот Авелев столп, – подумал он, – я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы, что мой каменный корабль сел на мель и накренился». И его губы дрогнули в улыбке: подумать только, человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. «Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефа, может показаться, что это языческий храм, а вон те двое с ломами, что работают посредине, в солнечной пыли (когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будит эхо), – жрецы, свершающие какой то неведомый обряд… Господи, прости.
Вот уже полтораста лет мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется, как было, только узор будет еще богаче, великолепнее, обретет наконец совершенство. А сейчас я встану на молитву».
Но он понимал, что еще повременит с молитвой, даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит, – знал всегдашний устав дня, знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает, знал, как надежен каменный корабль и его команда.
И словно эта мысль возвестила о начале короткой интермедии, он услышал, как стукнула щеколда и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу свою дочь во Христе».
И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов, а он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда. Но жена Пэнголла, заслонясь ладонью от пыли, свернула налево. На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она, вместо того чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу; ему оставалось лишь мысленно послать благословение ей вслед. Он провожал ее взглядом, слегка разочарованным и полным любви, а она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей, – подумал он, исполненный любви к ней.
Вздернув подбородок и сощурясь, он крепко, в обеих руках, держал перед собой макет шпиля – о радость…
– Полжизни ждал я этого дня!
Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцеллярий, его бледное старческое лицо было в тени.
– Не знаю, что вам сказать, милорд настоятель, право, не знаю.
Он не сводил глаз со шпиля, который Джослин так крепко держал в обеих руках. Голос его, тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной, высокой зале капитула.
– Ведь если представить себе, что эта деревянная поделка… сколько в ней длины?
– Восемнадцать дюймов, милорд канцеллярий.
– Восемнадцать дюймов. Да. Именно. А в действительности, сколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла…
– В четыреста футов высотой.
Канцеллярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал чего то. Потом он взглянул на потолок. Джослин смотрел на него, повернув голову, исполненный любви.
– Я знаю. Фундамент. Но будем уповать на бога.
Канцеллярий наконец нашел то, чего искал, – он вспомнил:
– Ах, да…
И старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери. Он вышел, а в воздухе осталась весть:
– Ну конечно. Утреня.
Не двигаясь с места, Джослин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из ризницы последним и повернет налево, как всегда; а потом спохватится и повернет направо, к капелле Пресвятой девы!» Джослин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании. «Я знаю их всех, знаю, что они делают сейчас, и что уже сделали, и что будут делать. За все эти годы, пока я шел своим путем, собор стал моей плотью».
Он оборвал смех и вытер глаза. Потом снова взял белый шпиль и незыблемо утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора.
– Вот так.
Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Неф – его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны – раскинутые руки, хор – туловище, а капелла Пресвятой девы, где отныне будут совершаться богослужения, – голова. И вот теперь вознесся, устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величие – новый шпиль. «Они не знают, – подумал он, – не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении!» Он снова засмеялся от радости и вышел из залы капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. «Но я должен помнить, что шпиль – это не все! Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды».
Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите, врата, верхи ваши!» Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утреню служили в отдалении, звуки были такие крошечные, ничтожные, что казалось, их можно собрать в горсть, и тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом. Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотащив до места, и все это породило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, настигать самих себя и тонкоголосое пение хора и звучать бесконечно, на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени пред невидимым отсюда престолом; потом поднялся с колен и стал смотреть.
Мгновение он моргал. Такого яркого солнца ему еще не доводилось здесь видеть. Всего осязаемей в нефе была не дощатая, обитая холстом стенка, которая делила собор надвое, не два ряда арок, не часовни и не расписные надгробия меж ними. Осязаемей всего был свет. Он врывался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор по другую сторону нефа. И повсюду пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра. Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветки и стволы становились цветом, только цветом – медовой желтизною, исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие с высоты ста пятидесяти футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столп, над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола.
Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом. «Если б не этот Авелев столп, – подумал он, – я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы, что мой каменный корабль сел на мель и накренился». И его губы дрогнули в улыбке: подумать только, человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. «Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефа, может показаться, что это языческий храм, а вон те двое с ломами, что работают посредине, в солнечной пыли (когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будит эхо), – жрецы, свершающие какой то неведомый обряд… Господи, прости.
Вот уже полтораста лет мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется, как было, только узор будет еще богаче, великолепнее, обретет наконец совершенство. А сейчас я встану на молитву».
Но он понимал, что еще повременит с молитвой, даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит, – знал всегдашний устав дня, знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает, знал, как надежен каменный корабль и его команда.
И словно эта мысль возвестила о начале короткой интермедии, он услышал, как стукнула щеколда и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу свою дочь во Христе».
И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов, а он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда. Но жена Пэнголла, заслонясь ладонью от пыли, свернула налево. На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она, вместо того чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу; ему оставалось лишь мысленно послать благословение ей вслед. Он провожал ее взглядом, слегка разочарованным и полным любви, а она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей, – подумал он, исполненный любви к ней.
Чтобы прочитать полный текст,
скачайте книгу Шпиль, Голдинг Уильям в формате RTF (188 kb.)
Пароль на архив: www.knigashop.ru